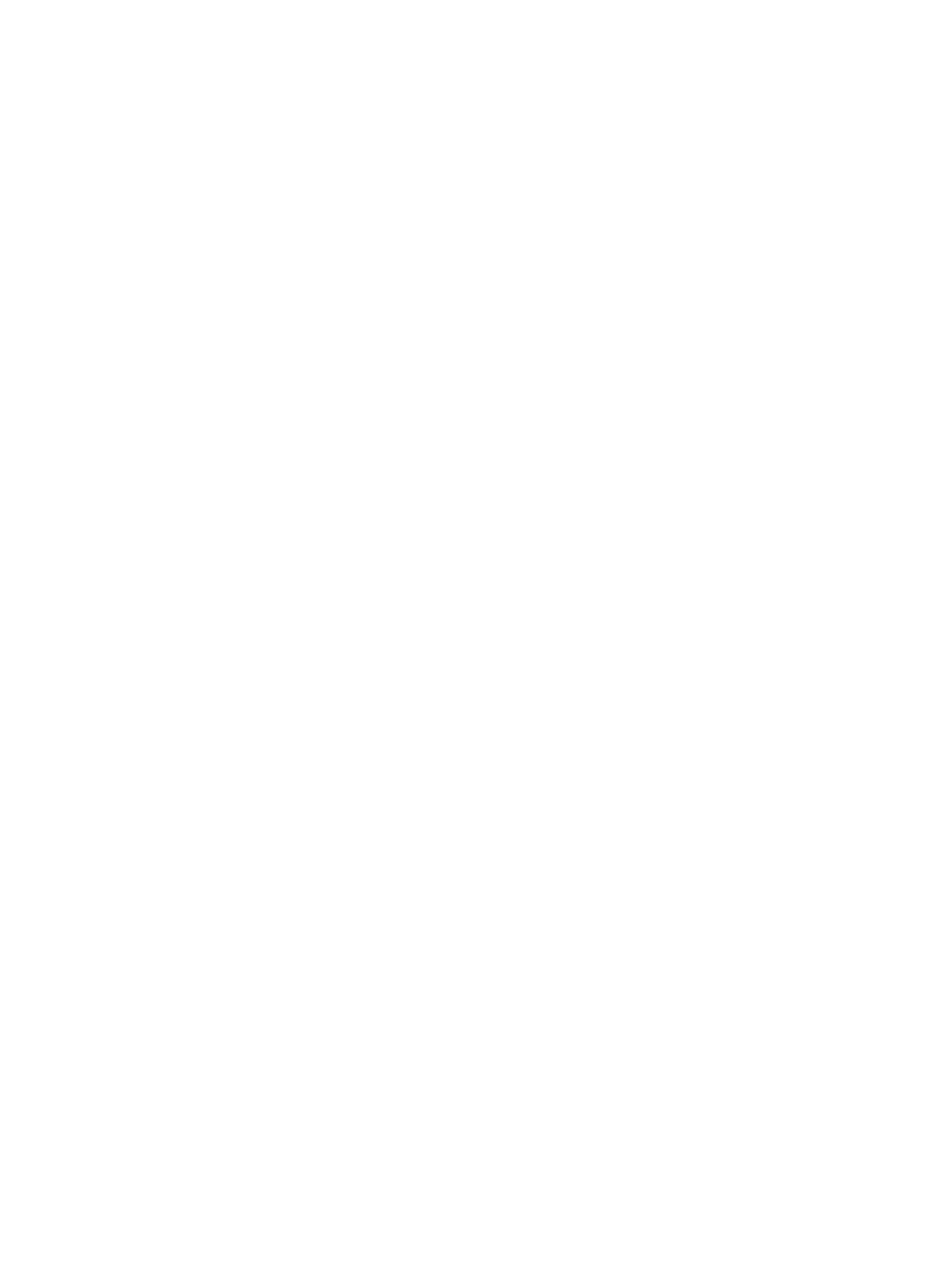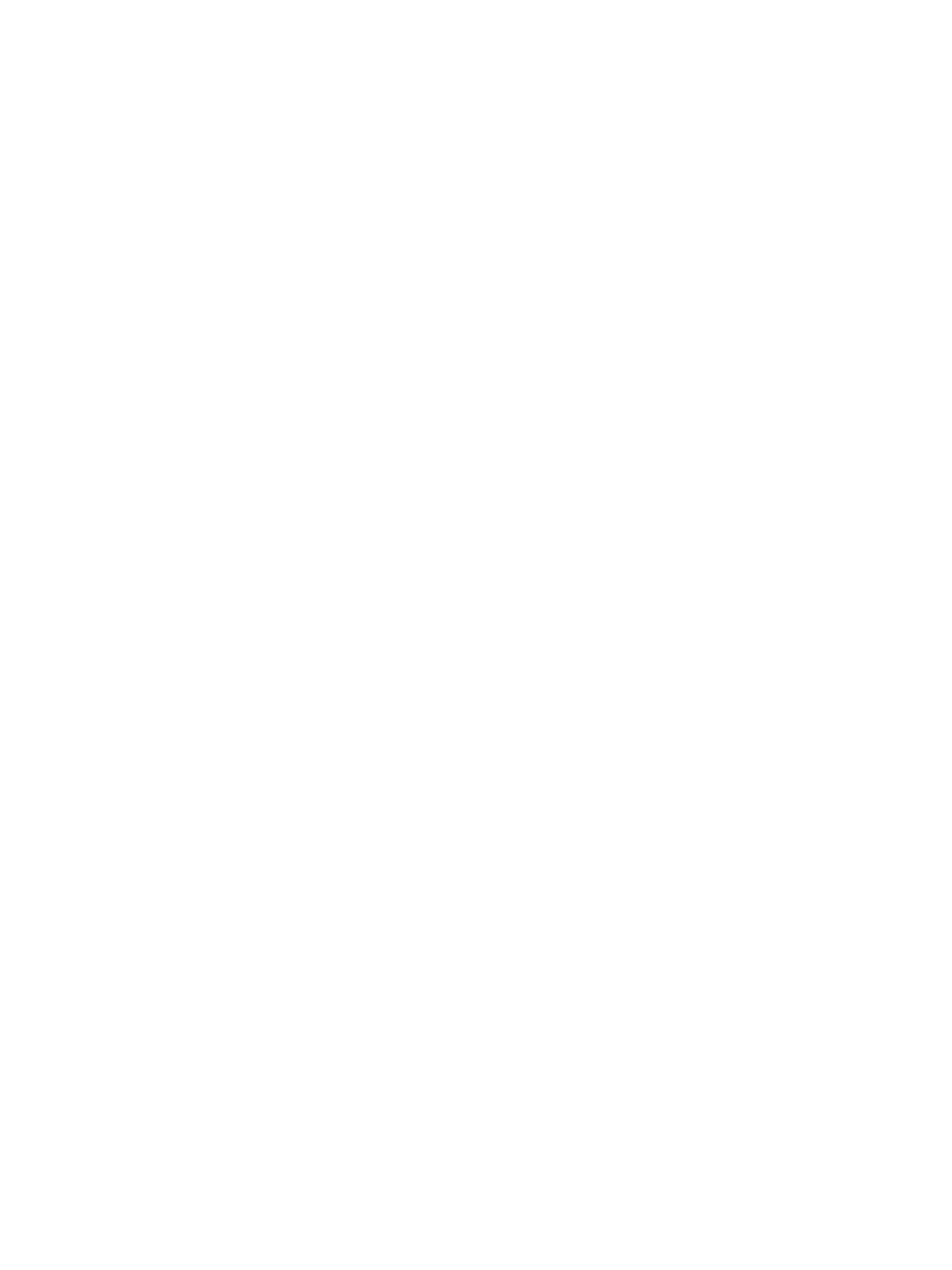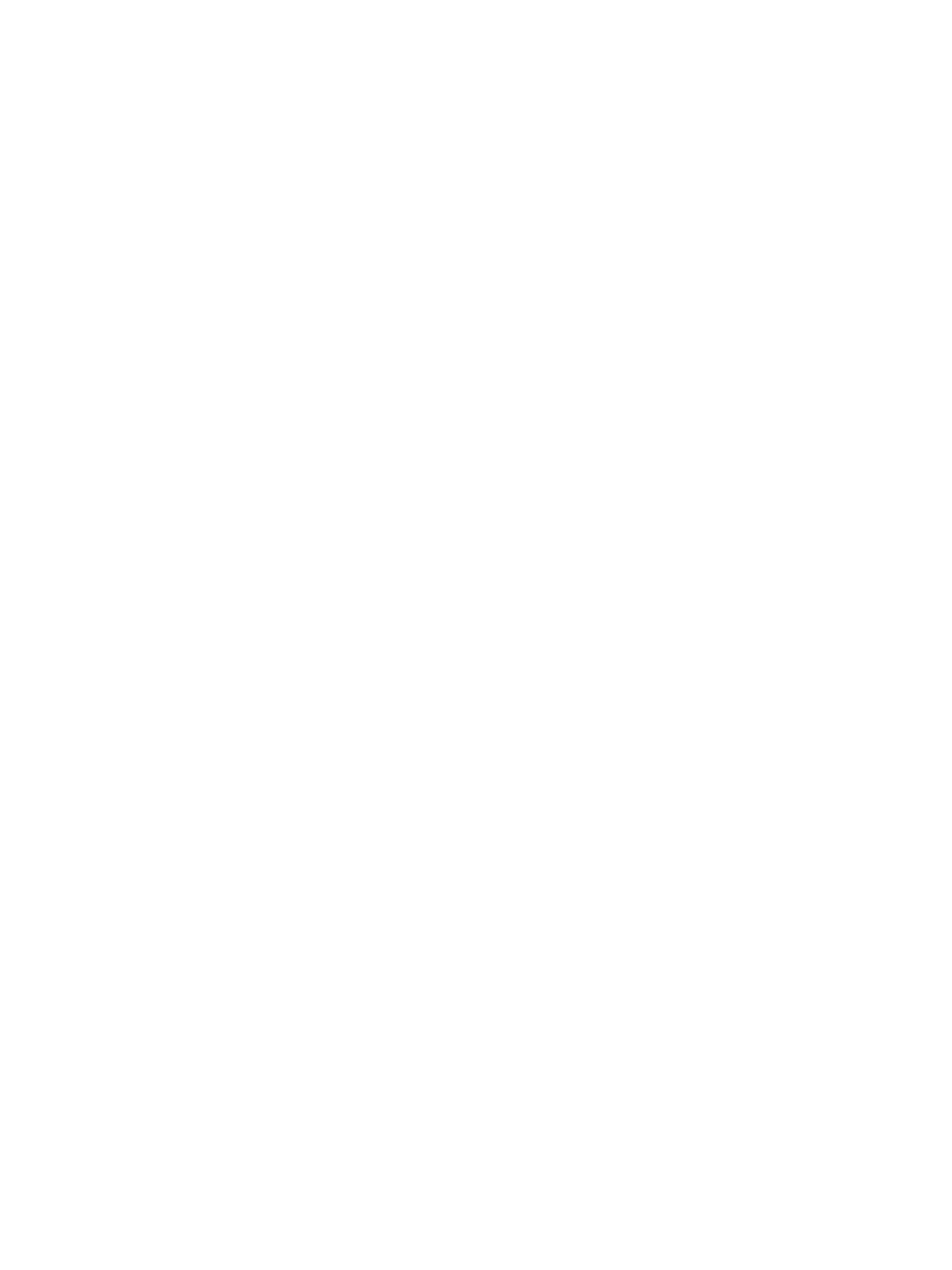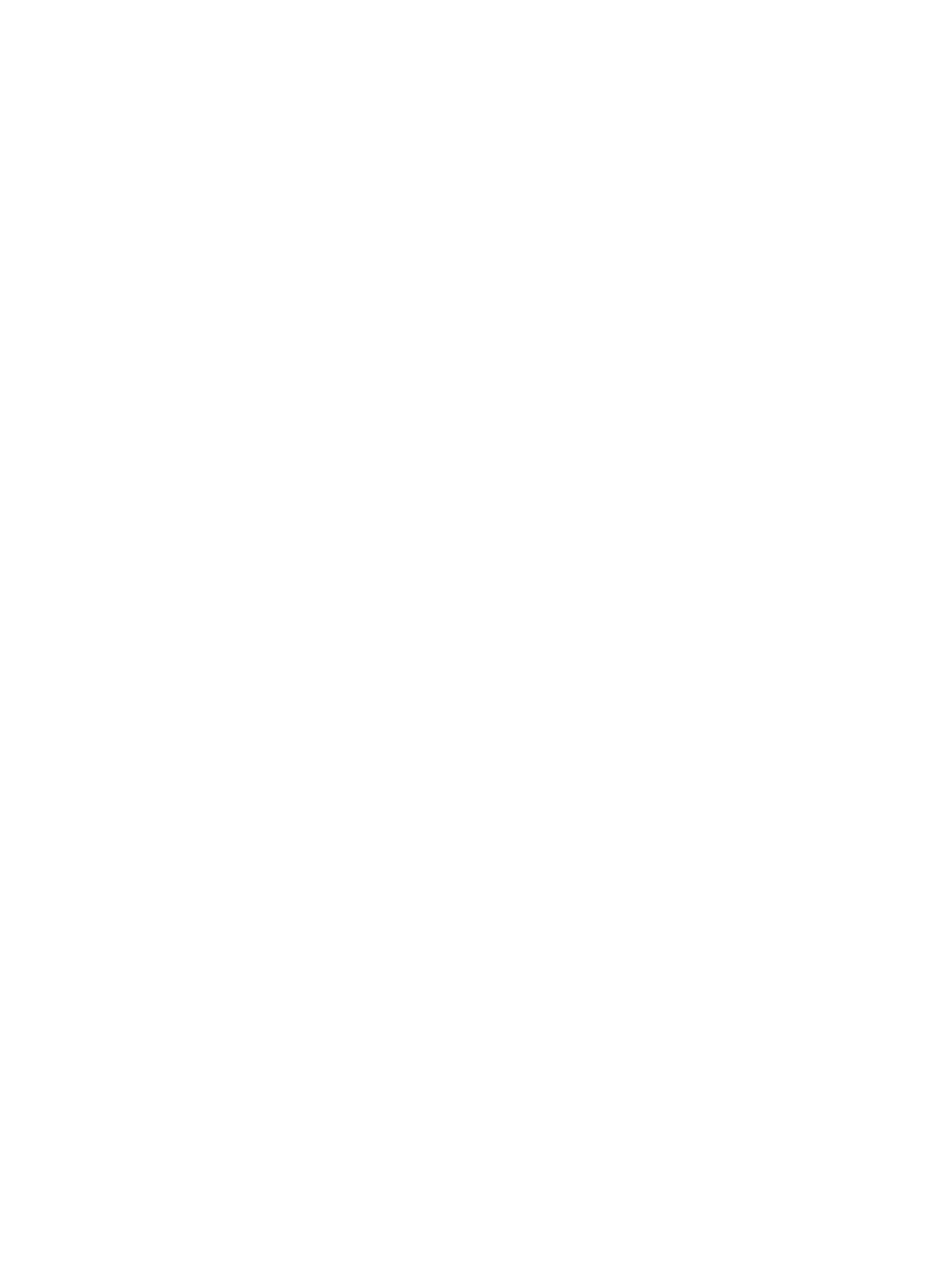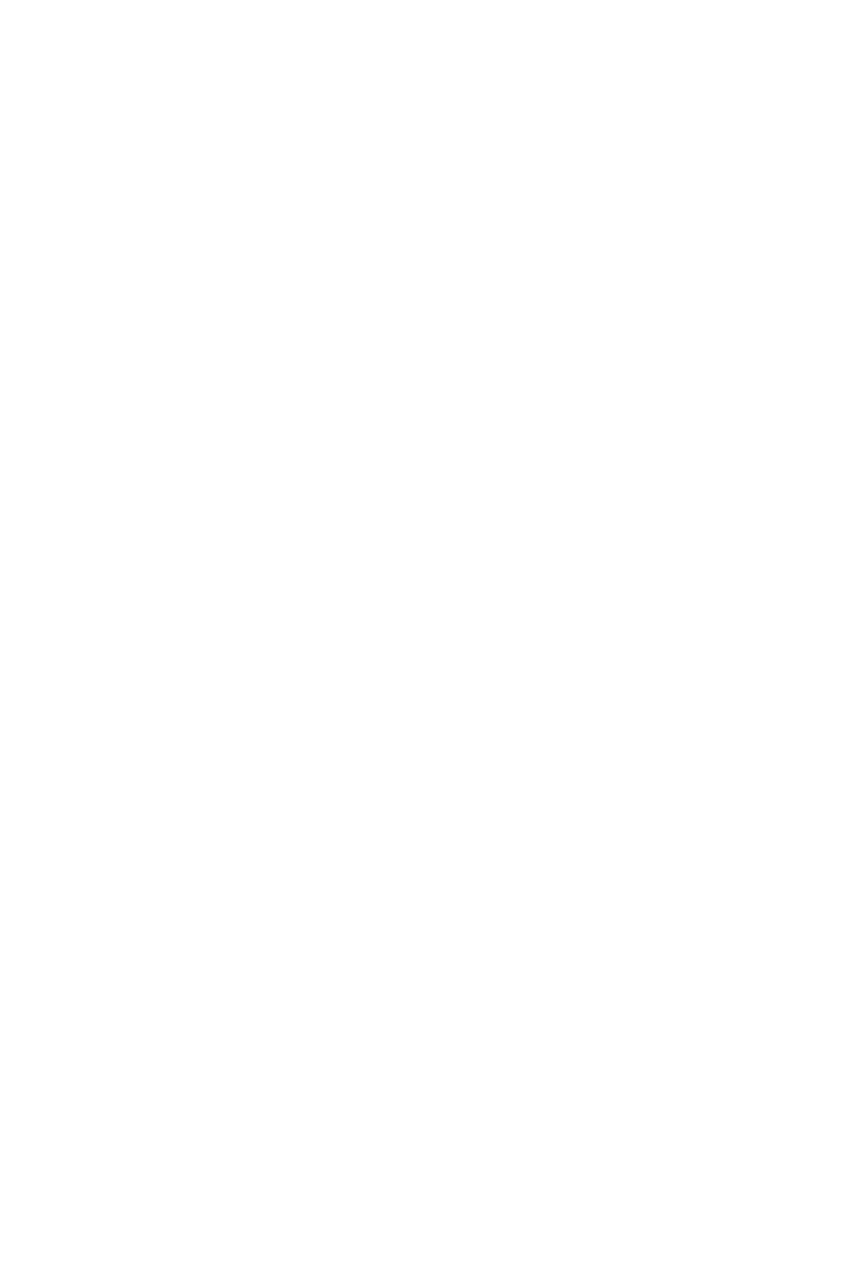Кристина Бандзеладзе — об образовании в селах, резиденции в «Люминари» и проекте «Устlар»
Автор: Аида Явбатырова
12 марта 2025
Центр просвещения «Люминари» – это большой и важный проект в Дагестане, который стал точкой притяжения в селе Хрюг и с 2018-го года работает с детьми и экспертами из разных областей. Мы всячески поддерживаем деятельность центра: например, ездили в Хрюг на маркеты и привозили оттуда детские изделия, зины, стикеры, рисунки; как-то посетили детский показ мод, который ребята проводили в Махачкале. Мы не только слушаем и смотрим все, что производит центр, но привозим туда резидентов и друзей сообщества. Равно как и в сундук сокровищ Южного Дагестана – Ахтынский краеведческий музей. Это две важные институции, работа с которыми органично вплетается в деятельность резиденции. Поэтому наша коллаборация «выкристаллизовалась» естественным путем: перетекла из андрагогики в педагогику, совмещая экспертность обеих команд.
У «Люминари» был запрос на резиденцию, затрагивающую компетенции по работе с 3D. У нас есть мастерская, которая может реализовать 3D-печать, есть методика по работе с культурным кодом и методика по изучению ремесел с детьми. Есть метод Арсена к переосмыслению культурного кода в диджитал и большой опыт Виктора с печатью 3D-объектов. Поэтому формат фиджитал стал понятным скрещиванием опыта команды и возможностей центра.
Первый – это сама резиденция в «Люминари». В течение недели мы обучали детей тому, как проводить полевое исследование, докручивать и защищать идею проекта и работать в программе «Blender». Второй этап – посещение нашей мастерской в Дербенте. Третий – доработка прототипов и подготовка к выставке. И четвёртый этап – выставка в Ахтынском краеведческом музее. На второй день резиденции мы отправились туда с детьми и попросили нашего замечательного гуру – исследователя и директора музея Ахмеда Фикретовича, не делиться с ребятами фактами об экспонатах, чтобы они в режиме живого исследования побродили по музейному пространству. Так дети учились самостоятельно выцеплять из пространства музея какой-то объект, а затем вместе с нами формировать новую связь с ним, новый смысл, новый мир.
«На второй день резиденции мы отправились туда с детьми и попросили нашего замечательного гуру — исследователя и директора музея Ахмеда Фикретовича, не делиться с ребятами фактами об экспонатах, чтобы они в режиме живого исследования побродили по музейному пространству. Так дети учились самостоятельно выцеплять из пространства музея какой-то объект, а затем вместе с нами формировать новую связь с ним, новый смысл, новый мир».
Группа ребят «Ахтынские робототехники» заметили щит в музее и придумали проект про Кибер Шарвили, где они из щита выращивают робота. Замечательная Аида заметила на ювелирном столе, мимо которого мы все проходили, шестеренку и сказала: «Она радует мой глаз, хочу с ней что-то сделать». В итоге решила, что хочет эту шестерёнку превратить в украшение. Это был интересный ход, потому что обычно на столе ювелира должны быть украшения, а там их не было. И благодаря ее проекту мы можем додумать образ того, что он делал, ведь этих данных нет ни в интернете, ни в архиве музея. Дети очень неочевидно все видят.
Мы жили в сакле с командой резиденции и Настей, координатором в «Люминари». Она лингвист и изучает дагестанские языковые группы в РАН. Жизнь в селе всегда классно меняет твой быт и распорядок дня. Проживая в сакле с печкой, все время держишь в голове, что каждые 40 минут нужно топить эту печь. В сакле не ловит Wi-Fi, поэтому домой ты приходишь исключительно отдохнуть. За едой тебе нужно либо сходить в кофейню через гору, либо съездить с соседями за продуктами в дальний магазин. Еще есть опция отправиться в гости. В Хрюге живет легендарная тетя Белла, у которой мы попробовали пирог «Харху» с урбечем. В какой-то момент этот пирог и кофейню мы соединили. Хотелось, чтобы, как в «Твин Пикс», в этой кофейне было знаковое локальное блюдо – пирог тети Беллы. Каждый день мы с командой вместе завтракали, обедали, ужинали, вместе готовились к занятию, работали с детьми в течение трех часов. Еще успевали поработать свою основную работу и позже быстро-быстро бежали в теплый дом.
«В Хрюге живет легендарная тетя Белла, у которой мы попробовали пирог „Харху“ с урбечем. В какой-то момент этот пирог и кофейню мы соединили. Хотелось, чтобы, как в „Твин Пикс“, в этой кофейне было знаковое локальное блюдо — пирог тети Беллы».
«Люминари» был одним из первых образовательных проектов в Дагестане, о которых я узнала. После переезда я часто приезжала туда с друзьями и коллегами. Однако позаниматься с детьми в центре не успевала, потому что уже работала в Цмуре. Точки взаимодействия плавно нащупывались: детей из «Люминари» я приглашала в мастерские по ремеслам в Цмур, а с детьми из Цмура ездила на день рождения центра в Хрюг. Мы стали дружить школами. Получилось, что спустя много лет замкнулся круг желаемого, и я приехала сюда уже в составе проектной группы с резиденцией.
С 2018 года Дагестан начал всплывать в моем инфополе, хотя я о нем ничего не знала и не изучала. Здесь начала делать проекты студия «Гонзо-дизайн», сюда приезжала Ксения Диодорова, сооснователь студии. Потом вместе с Мурадом Калаевым сюда на мотоциклах отправились в путешествие ребята из «Энтузиаста», запустив проект «GranDagestan». Позже в Дагестане оказались коллеги из «Учителя для России» и ребята из проекта «Кружок». Люди, чья работа была мне интересна, разблокировали для меня эту локацию. В какой-то момент вышла документалка от «Афиши» о современном Дагестане. В ней раскрывалась неформальная сторона республики и участвовали люди, которые создают Дагестан сегодня. Меня это тогда очень заинтересовало и я подумала: «Ну все, еду!»
Да. Мы провели три недели нон-стоп в формате креативного лагеря для детей. Я отвечала за аудиоспектакль по лезгинским сказкам. Все время работы директор школы Сергей Юрьевич зазывал нас остаться. Цмур – это горное село, в котором при участии меценатов была перестроена школа. Учителей звали работать в учреждение с новой инфраструктурой и передовым материальным оснащением, предоставляли комфортабельные квартиры для проживания, к тому же выражали готовность внедрять новые подходы в образовании. Поэтому у меня размышление о переезде заняло, наверное, ноль секунд. По возвращении в Питер я написала смс-ку директору насчёт предложения остаться. Он сказал: «Жду в Дагестане». Так я переехала в село. Это был 2022 год.
Так или иначе моя работа была связана с детьми. Я проводила им экскурсии как музеолог, продумывала маршруты. В составе творческого независимого проекта разрабатывала медиацию для детей. Это была одна из целевых аудиторий, с которой мы работали. С 2020-го года я смотрела в сторону «Учителя для России». Идея, что можно работать с детьми не в центре, а где-то в регионе, и приоткрыть для них какое-то информационное поле, к которому у них нет доступа, была важна для меня. Я прошла все собеседования, но изначально отказывалась ехать куда-то на 2 года. Просто ездила в села с сообществом «Учителя», занимаясь параллельно своей работой. Но, как видишь, эти два года случились со мной в Цмуре, а к тому времени уже наработалась какая-то методика работы с детьми.
Мы договорились с директором, что я буду координировать центр дополнительного образования при школе. Команда школы обновлялась, поэтому мы приехали в село вчетвером с коллегами из проекта «Учитель для России». Первый год я работала координатором центра творчества, на второй – стала дополнительно вести уроки английского. Параллельно развивала свой проект.
Во время работы в центре мы проводили много исследований, чтобы обновить программу дополнительных занятий, учитывая запросы школы и детей. Детям хотелось больше практических занятий, на которых они могли бы делать что-то своими руками. В какой-то момент мы поняли, что во всех семьях были или есть родственники, которые занимались каким-то ремеслом, чаще всего ковроткачеством. Село Цмур находится рядом с Касумкентом, а Касумкент в Сулейман-Стальском районе когда-то был центром ковроткачества, там была фабрика. Нам захотелось интегрировать это в уроки технологии и осовременить их – с соответствующим оборудованием и уклоном в ремесло. Тогда мы начали развивать направление фандрайзинга, научились писать гранты и отправили много-много заявок, из которых три победили. Так появился проект «Устlар» – новая методика преподавания ремесел в школе, основанная на современных креативных инструментах.
Изначально проект, кстати, не так назывался. Но как только мы начали его реализовывать, нащупывать смыслы как с детьми, так и со взрослыми, заполнять очередные анкеты, проводить исследования, то поняли, что здорово было бы назвать проект на лезгинском языке, чтобы было больше сопричастности. Мы собрали все идеи и до ночи переписывались с коллегой – лезгином по национальности, крутили-крутили названия и, вот, появился «Устlар» - с лезгинского это значит «мастер».
Участниками проекта стали 9 школ нашего района и центр просвещения «Люминари». Он решал важную проблему с уроками технологии, которая часто наблюдается в сельских школах – не оснащенные оборудованием кабинеты и отсутствие в связи с этим практики у детей. Школы решали этот вопрос по-разному: например, выводили детей на субботники или в теплицы. Директор одной из школ таскал оборудование из своего дома детям, чтобы они могли что-то мастерить; директор другой – обращался к местным органам власти, которые в итоге выделили в бюджете средства на школьное оснащение. На базе центра творчества в Цмуре мы создали три мастерские с классным оснащением, а для других школ собрали наборы ручных инструментов: от шлифовальных машин до паяльников, выжигателей и лобзиков. Как итог: оборудование в 10 школах, с которым можно работать; персональный или реализованный в составе команды ремесленный проект у каждого ребенка и команда учителей, которую мы обучали и которая работает до сих пор.
Направление «Ремесло и дизайн». 2023-2024.
Главная цель проекта – актуализация дагестанских ремесел. Мы работали и с детьми, и с педагогами. Проводили теоретические занятия в разных школах для детей, а потом принимали учеников и учителей этих школ у себя в мастерских для практических занятий. Периодически приглашали проводить занятия ремесленников, мастеров, представителей дагестанских брендов и художников или ездили к ним в разные районы республики. Они также обучали и детей, и педагогов района, которых мы собрали в сообщество.
Во-первых, это практика и проектная деятельность. Было очень важно, чтобы у детей появился опыт реализации своего проекта – от проработки идеи до презентации и фиксации результатов. Презентация в нашем случае – это и защита своего проекта перед одноклассниками, и создание какого-то изделия для выставки-фестиваля, и показ этого изделия другим людям, и рассказывание об этом изделии. Во-вторых, упор на локальную идентичность и полевые исследования, в ходе которых дети могли в том числе собрать материал для будущего проекта. В-третьих, сохранение авторства детей и проведение медиации. Мы учились не давать детям конкретное задание, а выявлять их запрос после изучения какой-то темы и уточнять, что именно они хотят сделать. Чтобы не закладывать в головы детей какой-то идеальный результат, к которому они должны прийти. В-четвертых, опора на сообщество и нетворкинг. Это значит, что если вы, как учитель, знаете, что в вашем селе есть какой-то мастер, то тащите его в вашу школу и вместе с ним проводите детям мастер-классы. И последний, наверное, самый важный пункт – это внедрение креативных инструментов в процесс изучения ремесла. Например, мы проводили подробный анализ его дизайн-кода, что позволяло детям не копировать изделие, а вычленять из него элементы и адаптировать на разных современных носителях.
Это, кстати, прикольный вопрос. Методику работы с ремеслом точно можно адаптировать для города. В случае с локальной идентичностью мы пока что делали акцент на сельский контекст, но метод работы с ней универсален вне зависимости от оснащенности школы – в этом был наш главный посыл. Бонус сельской школы в ее местонахождении – у тебя все близко, ты можешь за время урока сходить с детьми в гости к мастерице из села, зайти в ДК или музей и пощупать объекты, или вообще отправиться в поход для исследования. В городе же с мобильностью сложнее. Когда мы рассказывали городским учителям про проект, они отвечали: «Ну, все понятно, вы-то в селе вышли и через минутку оказались уже у кого-то дома, а у нас так не получится». Мы точно готовы адаптировать проект для городских учеников, но, возможно, мне самой на данный момент важнее работать именно с селами.
Сейчас я сотрудничаю с учителями, рассказываю им, как можно делать то, что делали мы – в случае получения гранта или без него. У меня пока нет финансирования, чтобы запустить новый этап деятельности в школах, но я ездила в Махачкалу и рассказывала в ДИРО (Дагестанский институт развития образования) учителям, как мы работали над проектом. Была также встреча с презентацией проекта в «Городе 1857», на которую пришли 20 учителей из разных районов Дагестана. Получается, сейчас он существует в рамках Дагестана и находится на стадии передачи методики в другие районы республики.
Это связано с неравномерностью образования в городском и сельском контексте, которая выражается ограниченностью доступа ученика из села к возможностям, развивающим его глобальные компетенции. На это влияют отдаленность школы от трассы; низкое разнообразие досуга и разнообразие круга общения для социализации; низкий уровень цифровизации сельских школ, что приводит к нехватке знаний о профессиях, которые понятны ребенку в городе. Не всегда, но часто в сельских школах не закрыты базовые вопросы: состояние или вообще пригодность здания для учебы, отопление в кабинетах, их оснащение. Чем дальше школа от трассы, тем изобретательнее локальное сообщество: знаю школу в маленьком селе, которая буквально находится в некогда доме одного из жителей села. Все это очень сильно уменьшает амплитуду возможностей для выбора своих жизненных траекторий у ученика и желание доучиться до 11 класса. Я не говорю о том, что каждый выпускник должен, к примеру, идти работать в IT, однако доступ к знанию об этой сфере он должен иметь.
Здесь наблюдаю классный процесс: переехавшие когда-то дагестанцы возвращаются и начинают в своих родных селах что-то модернизировать, благодаря приобретенному опыту за пределами республики. Так появился и центр «Люминари», и школа в Цмуре. Забавно, что знание об этих проектах очень распространено в центральной России, но критически низко в Дагестане! Когда в Питере я говорю, что поехала в Хрюг, все такие: «О, класс, мы знаем!» А когда я в Дагестане говорю, что еду в школу в Хрюге, меня спрашивают: «А что там?». Думаю, освещение такой деятельности в республике, а не пиар в центре России, помогло бы притянуть больше внутренних ресурсов в решении вопроса модернизации сельских школ. Однако, знаю, есть план по реновациям школ Дагестана до 2030 года. В нем стоит большое число – 200 школ.
Прежде всего, мне важно показывать учителю и ребенку их преимущества и возможности в текущих условиях. Важно, чтобы ребенок из села ощущал свою силу вне зависимости от местонахождения. Село имеет миллион преимуществ, которые так же важно подсвечивать, как и вопросы оснащения, заработка, качества профессиональных кадров и расширения возможностей. Я очень рада, что у меня, как и у всех в Дагестане, теперь есть своя селуха – Цмур, где дети и взрослые очень многому меня научили. Теперь я могу говорить, что спустилась с гор.
«Село имеет миллион преимуществ, которые так же важно подсвечивать, как и вопросы оснащения, заработка, качества профессиональных кадров и расширения возможностей. Я очень рада, что у меня, как и у всех в Дагестане, теперь есть своя селуха — Цмур, где дети и взрослые очень многому меня научили. Теперь я могу говорить, что спустилась с гор».
Зрительские! (смеется) Моя предыдущая сфера занятости была связана с рекламой культурных учреждений, с курированием локальных выставок, с созданием культурных продуктов. Я работала в Синематеке «Искусства кино» как СММ-менеджер и пиар-специалист, работала в киноцентре «Родина» пресс-секретарем. По факту это была деятельность арт-директора, которая охватывала всё, потому что мне было очень интересно. Я работала с индустриальными пространствами фабричными. Это называется ревитализацией, когда ты наполняешь новым содержанием уже не работающую фабрику. Еще сняла для проекта друзей документальный фильм про Соловецкие острова. Возможно, тогда от насыщенности всего производства я сильно выгорела. Поэтому первый год в Цмуре отдыхала от кино и всего культурного производства, сместив акцент на образование. Сфокусировалась на том, чтобы в одном месте применить все, что умею делать.
Когда ты мечтаешь попасть в сферу культурного производства, а потом туда попадаешь, то сталкиваешься с тем, что делаешь много за малое количество ресурсов, просто двигаясь на том, что тебе нравится быть причастным к этому. Этот дисбаланс потом жестко выпиливает тебя из реальности. Но спустя полтора года в Цмуре мне стало очень сильно не хватать киноконтента как зрителю. Я начала думать, как приводить прокатчиков в Дагестан. И даже организовала один показ в Махачкале. Мы его сделали с прокатной компанией «Артхаус». Случилось какое-то магическое стечение обстоятельств и буквально за три недели мы договорились о показе с махачкалинским кинотеатром. Показали фильм «Задира», который взял Гран-при «Сандэнса». После показа стоматолог из Махачкалы написала мне сообщение, мол, спасибо, мы вот такое вообще-то очень хотели бы смотреть.
Это было летом 2022 года, после того, как я приехала в Дагестан. Тогда ребята назывались «Сильно нормально». Думаю, у них хорошо была настроена контекстная реклама, потому что они часто попадались мне в ленте инстаграма. Ребята тогда делали одну из их первых выставок в Башне семи легенд в Дербенте. Я на неё не успела попасть, но с Катей сразу связалась, познакомилась. Осенью, уже работая в Цмуре, я позвала ребят из резиденции рассказать о своей деятельности детям на мероприятии о профессиях. Так мы встретились с Полиной и у нас произошел мгновенный мэтч.
Мы сразу определили, что надо связать мой прошлый контекст с кино и образовательную часть резиденций. Я показывала фильмы, которые можно связать и с резиденцией, и с Дагестаном. Например, кино об искусстве мусульманских стран. Первым фильмом, что мы смотрели, был иранский документальный фильм «Снимок семьи» Фирузе Хосровани. Этот фильм привозили в Россию один раз на «Beatfilm Festival» – в сети его нет, поэтому мы приобрели права на один просмотр на официальном сайте. Одна из художниц после просмотра додумала концепцию своего арт-объекта. Это было классно.
Когда я завершила отношения с Цмуром, «Сильно» пригласили меня курировать экскурсии на фестивале «Нарма». После нам захотелось продолжать работать вместе. Так я стала куратором спецпроектов и зафиксировалась в команде. В мои обязанности входит и написание грантов, и курирование публичной программы, и коллаборации с контекстными сообществами и проектами. Это важное направление: с одной стороны, хочется укрепить связь с текущим сообществом и экспертами, а с другой – открыть «Сильно» для внутреннего сообщества, чтобы взаимодействие с резиденцией выстраивалось в том числе как с образовательной институцией, которой мы являемся.
Мы начинаем сотрудничать с институтами, институциями и образовательными проектами. Готовим программу практики для студентов ДГТУ (Дагестанский государственный технический университет), которые вдохновились нашей выставкой «Клубок по интересам» и сказали, что хотят расширить свои знания о творчестве через науку и технику. В качестве специального проекта мы разработали программу для центра «Люминари», также рассматриваем развитие направления «Art and Science» со студентами художественных училищ и студентами технических специальностей. Хочется связывать людей, институции и создавать возможности для большого междисциплинарного обмена. Дагестан – благодатная земля и безграничное поле для созидания и эксперимента.